Дорогами войны
В нашем семейном архиве сохранились два удивительных свидетельства о Победе, полученные из первых рук: две открытки, посланные из Берлина солдатом Красной Армии 2 мая 1945 года — в день капитуляции Берлина, и 9 мая — в день капитуляции фашистской Германии. Отправил эти открытки Павел Владимирович Григорьев, уроженец Альметьевска, который до войны по болезни был вынужден проводить много времени в Казани. Моя бабушка, Расиха Юсуповна Юсупова, родом из Альметьевска, думаю, её родственники попросили опекать парня во время пребывания на лечении в казанских больницах. Это происходило часто, и по приезде в Казань он останавливался в нашей семье — поэтому и относился к семье бабушки как к близким родственникам.
В 1944 году в возрасте восемнадцати лет Павел был мобилизован на фронт и дошёл со своей дивизией до Берлина. Об этом он подробно и интересно спустя много десятилетий написал в своих воспоминаниях.
Во время Великой Отечественной войны семья моей мамы — дедушка Газимзян Ахметзянович Ахметзянов, бабушка Расиха Юсуповна Юсупова, моя мама Наиля Газимзяновна Ахметзянова и её двоюродный брат из Альметьевска, Алик Абузарович Тураев, жили на улице Овражной, дом 7, где они снимали жильё. Открытки от Павла Григорьева посылались по этому адресу. Мамин старший брат, Тукай Газимзянович Ахметзянов, тоже воевал, но к победному маю 1945 года он погиб на фронте, в семью пришла похоронка…
Про Павла Григорьева я ничего не слышала от мамы и бабушки, а может, просто не помню. Когда близкие рядом и живы, не понимаешь важности и ценности того, что они рассказывают…
Пришлось самостоятельно искать информацию о нём. К счастью, на сайте КГАСУ, который он окончил в 1952 году, есть запись его армейских военных воспоминаний. На сайтах Министерства обороны РФ «Память народа» и «Подвиг народа» есть странички о Павле Владимировиче с документами о награждении и описанием подвига, за который его представили к награде. Он упоминает о представлении к награждению в открытке.
И теперь это не просто открытка из семейного архива, а кусочек истории жизни отдельного человека, истории семьи, истории страны…
Родился 18 января 1926 года в селе Абрамовка Васильевского сельсовета Ново-Письмянского района (ныне Альметьевского района) Татарской АССР.
В 1930 году наша семья переехала на жительство в село Альметьево (ныне город Альметьевск Республики Татарстан).
У моих родителей было шестеро детей. Старший сын Александр — кадровый военный, старший лейтенант, командир роты — погиб в боях под Москвой в 1941 году.
В школу я пошёл рано — в 6,5 лет, в 1932 году. После окончания школы определили меня учителем математики и физики сначала в семилетней, а затем в десятилетней школе, так как я прошёл хорошую подготовку в десятом классе — у нас учителями были преподаватели Московского университета, эвакуированные в Альметьевск.
Особенно много занималась с нами заведующая кафедрой университета по немецкому языку Вера Александровна Маслова. Она пристрастила нас к живому разговорному языку, необходимому во фронтовых условиях.
Также с теплотой я вспоминаю сержанта-фронтовика Ахметова — инвалида по ранению (одна кисть — протез). Он доходчиво объяснял, что война не игра, а суровое испытание, учил нас хорошо стрелять, окапываться и другим премудростям солдатской жизни.
Рос я ребёнком слабого здоровья, часто болел и подолгу. Наверно, в Казани не было больницы, где бы я не лечился.
В военные годы, до призыва в армию, я познал тяжёлые условия (сельской) тыловой жизни, плохое питание, тяжёлый труд по снабжению дровами (возили из лесу за 5–6 км на санях), отработка пая на колхозных полях.
Все понимали необходимость труда. Сейчас так мало ценят тех тружеников! А жаль!
Долг зовёт
В Советскую Армию я был призван в сентябре 1944 года. Выяснив, что хорошо стреляю, определили в группу подготовки снайперов. Готовили нас ускоренно, требовалось пополнение частям на фронте. Так я попал на фронт — в действующую армию, в состав знаменитой 150-й стрелковой Идрицкой (впоследствии — Берлинской) дивизии.
Но настоящим снайпером мне стать не пришлось, были уже другие задачи перед пехотой. В декабре 1944 года нашу часть, как и других полков дивизии, перебросили под город Варшава. Шли в основном своим ходом, как правило, ночами, а днём отлёживались в лесах.
Перед новым 1945 годом обосновались в лесах вокруг городка Станислава.
Эта пора в моей жизни запомнилась бесконечными боевыми тревогами, маршами, учебными стрельбами и ночёвкой в лесу вокруг небольших костров — я уже был бойцом роты автоматчиков 469-го стрелкового полка.
Спали так: на лесной поляночке, под маскировочной сеткой разводили костёр из ели-сухостоя, командиры строго следили, чтобы не было пламени.
Затем убирали угли, застилали лапником и ложились вплотную друг к другу. Через три часа будили, и места занимала следующая партия. Наша рота в основном занималась охраной штаба полка и палаток с офицерами.
Варшава и танки
Наступление на Варшаву началось, если не изменяет мне память, 17 января 1945 года. После артподготовки перешли Вислу первый эшелон — 1-я Польская Армия и соседние нашей армии части.
Мы переправились по понтонным мостам, недалеко от разрушенного немцами железнодорожного моста в составе частей второго эшелона. Варшава была в моей жизни первым большим городом, но как такового города уже не было — сплошные развалины и разбитые дома.
Нам приходилось разбирать завалы, очищать улицы, чтобы дать возможность проехать танкам и другой тяжёлой технике.
После Варшавы мы шли ускоренным маршем по варшавскому шоссе на запад, стояла отвратительная погода — дождь со снегом, сильные ветры. Чтобы не отстать от танковых частей, нас часто сажали на танки, мы помогали им избежать засад, минных полей, особенно бездорожье.
Шоссе сильно обстреливалось немцами, сидящими в засаде фаустпатронщиками (фаустпатрон — первый противотанковый гранатомёт одноразового действия. — Авт.), поэтому танки шли по полям и там часто застревали. Бои шли день и ночь, почти не спали (спали на ходу в строю, крайние не спали), плохо ели, только сухой паёк.
Таким образом, за сутки мы одолевали 35–40 км. В Познани наконец-то остановились передохнуть: накормили, ночевали на квартире у польских семей, которые радушно нас встречали, но это было чуть позднее.
До этого ещё несколько раз прорывали оборону немцев, останавливали сильно укреплённые позиции на холмах, на опушках лесов и на берегах озёр — а озёр там было бесчисленное множество, как и болот.
После ввода в действие танковой армии немцы стали отходить к Балтийскому морю. Вот тут опять началась погоня за немцами. Стояла сплошная неразбериха — нам приказывают не отставать от немцев, не дать укрепиться в населённых пунктах.
Танковая армия обходила укреплённые города и крупные лесные массивы. Особенно запомнился мне город Шнайдемюль, окружённый лесами. Здесь была окружённая группировка немцев. Как нам рассказывали политработники, немцы отвергли ультиматум нашего командования.
Тогда наша дивизия обложила город. Наша рота совместно с 3-м батальоном полка заняла опушку леса, рядом протекала река. Мы спокойно занимались своими делами, как вдруг рано утром немцы открыли сильный огонь и вырвались из города.
Впереди шли танки, броневики и самоходные орудия, сзади бежала пехота. Наши бойцы отступили вглубь леса к берегу речки. В это время через наши позиции прорвались наши артиллеристы — истребители танков, они открыли губительный огонь, сразу десятки танков были сожжены.
Тут ударила и наша пехота. Мы стреляли, не жалея патронов, к концу боя у меня в диске остались последние патроны. Немцы разбежались кто куда, но везде встречали отпор.
С такими боями мы передвигались к Балтийскому морю и вышли к нему в районе города Кольберг, это было 1 марта 1945 года. До этого мне не приходилось бывать у моря. Я был сильно разочарован — берег заболоченный, растёт камыш и никаких пляжей!
После короткого отдыха нас перебросили на юг — марш-бросок в 200 км на берлинское направление.
Тяжёлые бои
за Кунерсдорф
Конечно, по истечении стольких лет после этих боёв мне трудно вспомнить все эпизоды, так как ни один населённый пункт немцы не оставляли без боя, доходящего до рукопашного.
Но есть несколько населённых пунктов, которые я запомнил намертво — это городок Кунерсдорф. Ещё школьником мне запомнился этот городок, под которым почти двести лет назад при императрице Елизавете Петровне русские разбили немецкую армию во главе со знаменитым королём Пруссии Фридрихом II (а историю в школе нам преподавал член‑корреспондент Академии наук СССР, эвакуированный в наше село).
Вот за этот городок и развернулись тяжёлые бои. Нашему полку было поручено овладеть станцией Нойтребин — пригород Кунерсдорфа. Это было 17 марта. Атаки наших стрелковых батальонов застопорились из-за сильного огня немцев. Тогда атаку возглавил начальник штаба полка майор Тытарь. Это был молодой опытный командир, ему был всего двадцать один год, за предыдущие бои был представлен к званию Героя Советского Союза.
Он собрал весь резерв командира полка: нашу роту, комендантский взвод и повёл в атаку. Немцы не выдержали и отступили в Кунерсдорф. Но погиб и наш всеми любимый начальник штаба майор Владимир Тытарь. На другой же день Кунерсдорф был взят после тяжёлых боев, город был сильно разрушен.
После гибели майора Тытаря начальником штаба нашего полка был назначен майор Бахтин Пётр Григорьевич из города Буинска Татарской Республики, значит, мой близкий земляк. Я с ним встречался после войны, он работал собственным корреспондентом газеты «Социалистическая индустрия».
Взятие Берлина
21 апреля наш полк пробился на окраины Берлина. Хорошо помню вывески «Берлин оставим нашим» и прочие лозунги немцев. Мы прочёсывали пригородные дачи, коттеджи, почти не тронутые войной, но покинутые жильцами.
Впереди был огромный город на огромной площади с миллионным населением. Город был сильно укреплён, был поделён на части и отгорожен кирпичными и бетонными заставами, на перекрёстках главных улиц и площадях были установлены защитные орудия, приспособленные для круговой стрельбы, установлены бетонные колпаки, зарыты танки.
Особенно опасными были отряды фаустпатронщиков — немцев, которые были грозой для наших танков. Поэтому нам, пехотинцам, приходилось идти впереди и уничтожать фаустпатронщиков и зенитные орудия. Вместе с нами продвигались наши полковые пушки и миномётчики, огнемётчики.
Очень хорошо действовали огнемётчики, выуживая немцев из подвалов, а мы их уничтожали у выходов. Танки шли вперёд и давили пушки, пулемёты противника. Бывало так, что немцы — в подвалах, а мы на этажах или наоборот. Часто немцы стреляли из балконов вдоль улиц, а мы забирались по противопожарным лестницам на крышу и оттуда забрасывали пулемёты гранатами.
Так с тяжёлыми боями мы продвигались к центру города. А там новые препятствия — каналы с гранитными берегами, разрушенные мосты, река Шпрее — полноводная и с крутыми берегами, облицованными плитами.
Кругом враги, хорошо вооружённые и готовые стоять на смерть! Такова была пропаганда руководителя обороной города доктора Геббельса. Я видел повешенных немцами своих солдат, обвинённых в трусости и отступлении.
Пленные немецкие солдаты не хотели верить, что мы их отправим в тыл, а не расстреляем. Вот в таких условиях мы упорно шли вперёд. Я думаю, что наше командование прекрасно знало своё дело, умело организуя и направляя свои подчинённые части и подразделения, как-никак войск было много, а потери тоже были большие. Вместе с передовыми частями шли медики, своевременно оказывая помощь раненым и унося их к госпиталям.
Успевали также накормить нас наши тыловики, только вот спать приходилось на земле в укрытиях. Немецкая авиация мало нас беспокоила, изредка появлялись самолёты и сбрасывали пустые железные бочки, которые при падении издавали жуткий свист и шум, как будто сверху наваливается разрушенный дом.
Прорыв к тюрьме Моабит
Нашему полку было приказано занять Тиргартен (парк, где расположен зоопарк), тюрьму Моабит и имперскую канцелярию, а попасть туда можно было только через канал — непреступную водную преграду с высокими берегами, мост в нашей зоне наступления был полуразрушен, на другом берегу засели немцы с пулемётами, орудиями прямой наводки.
Наше командование подтянуло к каналу танки, самоходные орудия и установила плотную дымовую завесу по всей длине канала.
После артналёта мы все подбежали к каналу — многие бросились вплавь, а наша рота проскочила через мост, отбросила немецкие посты и залегла. Тем временем сапёры быстро восстановили мост, чтобы прошли танки и самоходные орудия. Так мы прорвались к тюрьме Моабит, были распахнуты ворота концентрационного лагеря, и оттуда хлынул поток заключённых всех возрастов и национальностей, мужчин и женщин.
Я лично заходил в их убогие бараки, где лежали больные или забитые охраной. Бой за овладение тюрьмой Моабит был очень ожесточённым. Это — старинное здание с толстыми стенами, бойницами, такие же мощные кирпичные здания, окружённые кирпичными заборами, где располагались оборонные заводы и фабрики.
Наш полк с честью выполнил задание командования, в течение двух суток отбивая яростные атаки отборных частей немцев, включая морскую пехоту, прорвался на помощь к своим силам, окружённым в доме Гитлера и Рейхстага.
В это время уже в звании ефрейтора я был направлен в группу ПСД (пункт сбора данных) при штабе полка. Бои шли на всех участках, занятых полком, устойчивой связи не было, телефонная связь часто выходила из строя, а приказания из штаба полка не терпели отлагательства, и нас посылали с устными или письменными приказаниями по нашим частям.
Опасная была эта служба, особенно по ночам, хотя нас посылали обязательно вдвоём. Часто приходилось сопровождать офицера связи с донесениями командира полка к командиру дивизии. НП (наблюдательный пункт) был недалеко от Рейхстага.
Жизнь после Победы
30 апреля бойцы дивизии ворвались в Рейхстаг и на куполе подняли Знамя Победы! 2 мая гарнизон Берлина капитулировал, война кончилась (для нас), в течение 2 и 3 мая шёл приём пленных у Бранденбургских ворот (это — рядом с Рейхстагом).
Нас разместили на территории немецкого кадетского корпуса. Там мы прожили до 10 мая. 9 мая было торжественное построение, вечером салют и стрельба в небо из всех видов вооружения, накормили отличным ужином, выпили по 100 грамм и легли спать!
А утром срочное построение с вещами, и маршировали за город на новое место расположения.
По пути делали остановку на даче Геринга — прекрасное место в лесу, кругом озёра, богатые рыбой, в том числе угрями, которых глушили гранатами.
В строевую роту я уже не попал, а был назначен в помощники начальника оперативного отдела. Штаб полка стоял сначала в деревне Целендорф, затем весь полк перевели в город Зеехаузен. Там я прослужил до декабря 1946 года. В этом году началась массовая демобилизация солдат и офицеров старшего возраста, а в конце года дивизию расформировали, а солдат и офицеров вернули в Россию служить в различных частях.
Наша группа из ста человек, в основном сержанты и старшины, попала в город Вольск Саратовской области, в школу младших авиационных специалистов (ШМАС). Из нас хотели сделать механиков или стрелков-радистов.
Затем я попал в ШМАС города Саратова, стал курсантом группы радиотелеграфистов.
Отсюда был демобилизован как инвалид III группы по ранению в сентябре 1947 года. В конце сентября я был зачислен студентом 1 курса Казанского института инженеров гражданского строительства (КИИГС).
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа





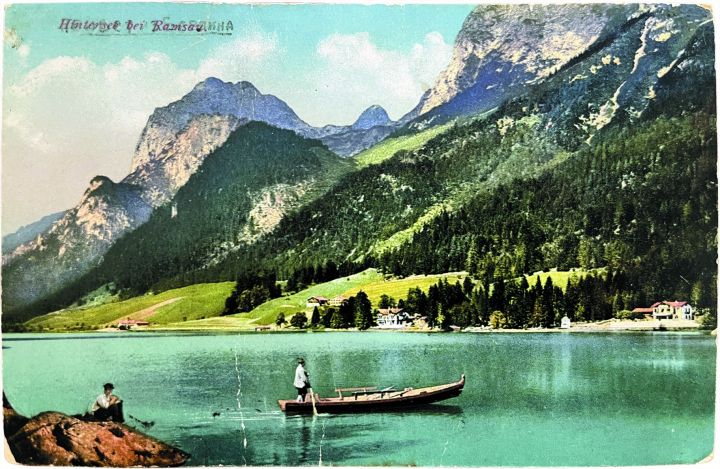
Нет комментариев